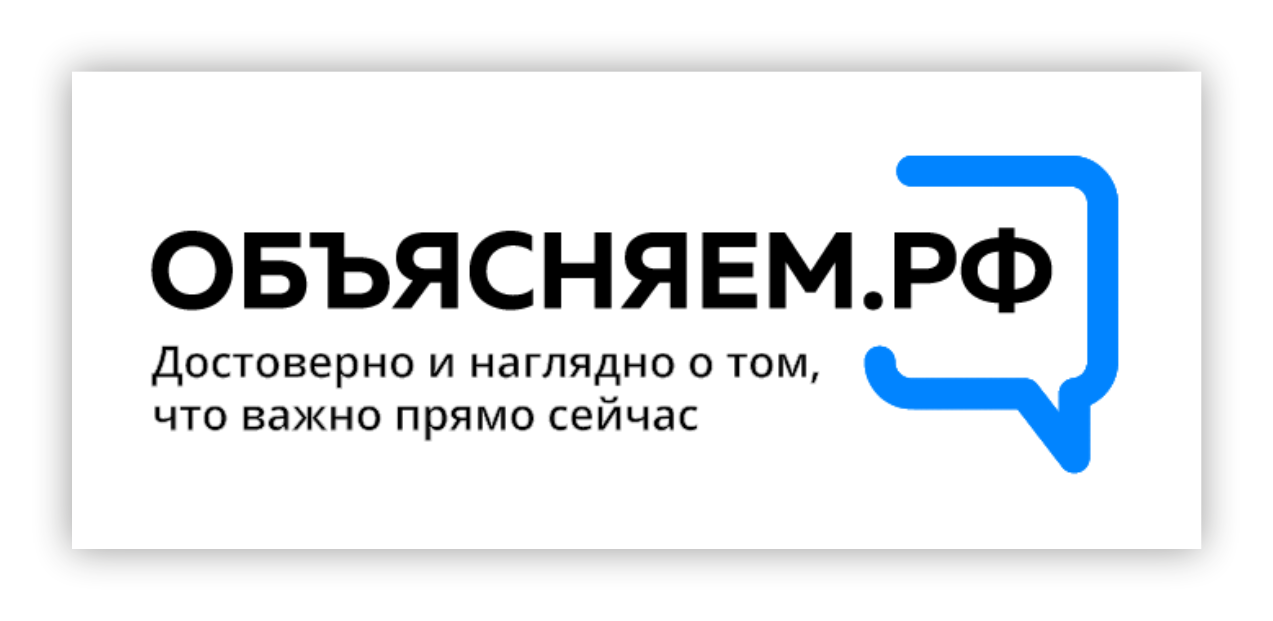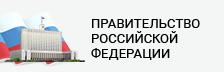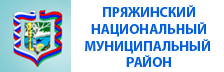Человек, наверное, никогда не перестает размышлять о будущем. Однако, бывают в жизни времена, когда мысли о нем особенно захлестывают воображение.
Для меня такой порой явилась вторая половина восьмидесятых годов, когда первые ростки гласности и открытости дали надежду реализовать давно вынашиваемый замысел - написать повесть еще об одном белом пятне нашей истории, тщательно скрываемом властями - чудовищном плане партийной и военной олигархии сталинских времен: выселить народ Карелии со своих исконных земель в лагеря Гулага. Эта тема была под запретом более полувека.
В 1991 году моя повесть "Заговор генералов" частями была издана на русском языке, а затем переведена на финский язык. Через некоторое время у нас дома стали | раздаваться телефонные звонки из разных концов республики, затем из Суоми. Потом последовали предложения о встрече. Вскоре ко мне в Петрозаводск начали наведываться гости из Финляндии, сперва тележурналисты и операторы, затем сотрудники из нескольких научных и учебных центров, предметом исследования которых были события минувшей войны.
Фрагментарно, часть за частью "3аговор генералов" стал появляться на страницах журналов ближнего зарубежья на национальных языках бывших братских советских республик.
В Финляндии повесть получила довольно заметный резонанс: в телепередачах и журнальных публикациях она была отмечена как правдивая книга о войне.
Вскоре о ней последовали одобрительные отзывы из Швеции и Дании.
На мой адрес стали приходить из-за рубежа письма от ветеранов, солдат и офицеров, воевавших с нами как в финскую (в Финляндии ее именуют "Зимней") войну, так и в Отечественную. Признаюсь, поначалу я с некоторой опаской и тревогой вскрывал каждое такое письмо, ожидая получить от бывших военных противников строки гнева, возмущения, упреков, жалоб, досады. Но, к удивлению, письма содержали иное: чаще всего они до подняли те события, которые я описывал в повести. Восприятие пережитого передавалось людьми, возможно когда-то с ненавистью глядевшими на меня через прицел автомата или пулемета. Тогда под бременем опасных и кровавых военных будней в память им врезались иные детали и под другим углом.
События, показанные с двух, когда-то яростно взаимоисключающих друг друга позиций, конечно же, исторически вырисовывались более объективно и полно.
Через полтора-два года переписки у меня возникли контакты с двумя группами финских ветеранов, и мы почти одновременно по обе стороны границы пришли к идее, не написать ли бывшим финским и советским солдатам и офицерам совместные мемуары об их боевой молодости. Пусть каждая сторона вложит свою частичку души и ностальгии по ушедшим временам, воскресит в памяти даты, места, события, лица и голоса товарищей по оружию, друзей, командиров, бессонные ночи, внезапные атаки, хитроумные лыжные маневры, снайперские уловки. Вместе тихо приумолкнем в минуту скорби о павших, своих и чужих; будем милостивы и уважительны к беспомощности их могил. Смерть - она ведь на всех одна, и ко всем в равной степени безжалостна. Одинаково горько смотрят на выцветшие фотографии убитых сыновей все матери земли, одинаково безутешны вдовы и сиротливы дети. Старость обязывает людей мудрости и покаянию. Наступило время собирать камни - сгладить уродливые рубцы и шрамы войны в человеческих отношениях! И вот по приглашению известного предпринимателя Мартти Нордстрема я еду в Суоми, чтобы обсудить вероятные варианты реализации нашей идеи о написании I книги. Получив визу на выезд, в один из жарких дней июля 1994 года я сажусь в Санкт-Петербурге в элегантный стремительный "Финнард", который ходко оставил позади площади и улицы нашей северной Венеции, готовящейся тогда к играм Доброй Воли.
Потянулось мелколесье. Неотрывно смотрю на мелькающие вдоль дороги жидкие сосенки и хилый лиственный лес, что остался после вырубок: с трудом верится, что здесь | еще продолжаются лесозаготовки.
Я вспоминаю, что похожие места видел когда-то в далеком, почти забытом детстве в пограничной Финляндии, куда волей судьбы был заброшен тринадцатилетним школьником.
Родина моя Карелия представляла собой тогда оккупированную территорию.
Откинувшись в комфортабельном кресле международного автобуса, я пытался разложить на составляющие суть капитализма, который, как мне представлялось, достаточно хорошо знал, видел, испытал на себе.
Эксплуататорский строй, думалось мне, не стал гуманнее и добрее, не обрел "человеческое лицо", как модно стало выражаться в наше время. А буржуазия как когда-то эксплуатировала и обманывала рабочий класс, так и продолжает это делать по сегодняшни день. Естественно, что в этом она поднаторела, стала наживаться на чужом труде менее заметно, ловчить искуснее, конфликты не заострять, противоречия спускать на тормозах. Когда бессильны уговоры - прибегают к силе, но позиций не сдают.
В памяти, как кадры в кино, мелькали события прошлого, сменяя друг друга. Временами воспоминания так глубоко уводили меня в пережитое, что я забывался, куда и зачем еду. Иллюзия, что я знаю сегодняшнюю Финляндию, не способствовала реальному мировосприятию и тогда я пускал в ход последний веский козырь. Как мне не знать Суоми? У меня дома бывали финские корреспонденты, радио- и тележурналисты, ученые. Со многими из них я и ныне в добрых отношениях, с некоторыми регулярно переписываюсь, с двумя тележурналистами участвовал в телепередачах.
Неожиданная остановка автобуса прерывает мои мысли.
- Проверка!
- Чего? - срывается у меня с языка.
- Документов!
Себе поясняю: нас!
Проверка заняла не более получаса, теперь, вероятно, мы уже "на чужой территории". Смотрю в окно. Вокруг автобуса ходят наши пограничники, двигаются вяло, вразвалочку. Мундиры расстегнуты, брюки расхлябанно пузырятся на коленях.
Чуть погодя, автобус трогается. Через сотню-полторы метров останавливается. Снова проверка и опять своими же пограничниками, но и она не последняя. Наконец, мы перебираемся с вещами из автобуса в маленькое помещение - таможню.
"Просвечиваются" наши вещи, а чиновники тем временем проверяют документы, внимательно вчитываясь в декларации.
Впереди меня в узком проходе медленно продвигает женщина небольшого роста - моя соседка по сидению автобусе. Она едет в Хельсинки к своим. Таможенник почему-то задерживает ее, тянутся тягомотные переговоры. Слышу тихий голос.
- В декларации же у меня указано: 20 тысяч долларов,
19 тысяч франков, 25 тысяч финских марок.
Время идет, за мной длинным цугом вытягивается очередь, а таможенник все еще беседует с моей соседкой. Наконец, ее пропускают.
После третьей проверки снова садимся в автобус. "Денежной" особы почему-то не видно, кто-то говорит, что за ней приехал "Мерседес". Только расселись по местам, как последовало объявление, что теперь нас проверять будут финны. Их не интересуют декларации и вещи, сверяются наши фото в паспортах с личносгью. Спрашиваю одного из финских таможенников: "Почему бы вам не объединить усилия с русскими? Дело пошло бы быстрее, глядишь, очередь бы сократилась! Скупо усмехнувшись, полицейский роняет:
- Они нас будут обманывать. Не стану утверждать, что он прав, и сомневаться, что не вполне законно "прорвалась"через таможенный барьер "денежная дама", но позднее, все-таки, остановлюсь на нескольких так называемых "проверках", о которых мне довелось узнать.
В тот же день, через два с половиной часа езды по комфортным дорогам Суоми наш "Финнард" прибывает в Лоиийсу, где Мартти назначил мне встречу, предупредительно указав в письме свои приметы.
Нордстрём - предприниматель, в стране известен еще и тем, что является спонсором литераторов. Его судьба, пришел я к заключению после нескольких лет знакомства, тоже достойна отдельной книги.
Встретив меня в Ловийса, он предложил экскурсию по стране на своем автомобиле, любезно став на несколько дней моим добровольным гидом и шофером. Суоми, каза-1 лось, с первых метров своей территории кичилась: нам есть, что показать, и мы не стесняемся это делать, ничего не утаивая от гостей.
Мартти, надо отдать должное, оказался знающим дело гидом. О чем мы только не переговорили с ним, колеся по модерновым финским автострадам! Он в армии с шестнадцати лет и, как и я, пороху тоже в войну понюхал. Сейчас, по пути в порт Котка, я возвращаю его в памятный 1943 год и задаю щекотливый вопрос, подспудно понимая, что при скорости выше ста километров резоннее было бы помолчать на подобную тему. Но как было не "раскочегарить" сосредоточенного, знающего себе и Суоми цену, Нордстрёма?
- А что это, Мартти, нигде нет и следов войны? Если вспомнить ваше радио, вас вдребезги бомбили каждую ночь тысячи советских самолетов? Мы уже не первый день на колесах и что же? Нигде ничего? - Мартти понял, о чем я толкую и тоже припомнил то время:
- Сразу после войны к нам приехали американцы. Недавно отбомбившись в небе Германии, они искали следы подобных разрушений на финской территории.
- Покажите результаты бомбежек русских! Час - другой бродили они по Хельсинки. Никаких разрушений!
- Что это значит? - допытывались янки у сопровождавших их финских офицеров и журналистов.
- Уже все восстановлено! - браво, не моргнув глазом, отвечал наш вояка.
- А ты что имел в виду? - полюбопытствовал Мартти.
- Вспомни, сколько каменных надолбов было нагромождено здесь в войну на берегу залива! Уже который день колесим, а ни одного нигде не видно. Может быть, проедем по самой кромке залива? - предлагаю я Мартти.
- Тогда надо сворачивать на старую дорогу! - отвечает он. Оказывается, мы ехали по новой. Некогда существующая дорога, как я мог убедиться, благоденствовала и в наши дни, за ней добросовестно присматривали, как за новой.
То, что понастроено было на юге Финляндии к середине 1943 года, казалось, не под силу было никому ни разрушить, ни убрать. На многие сотни километров берег был опоясан тремя и более рядами каменных надолбов: добрая треть из шестидесяти шести тысяч военнопленных почти на протяжении всей войны тесала огромные глыбы, усиливая оборону страны с юга. Сколько километров укреплений было сделано, не могут ответить даже сотрудники финских архивов. Они протянулись от Карельского перешейка до Ханко, продолжаясь пунктиром на ближайших островах. Проскочить их мог разве только десант при крепенькой поддержке танками и авиацией. Не потому ли командующие Ленинградского и Карельского фронтов не решались на десантирование? Хоть здесь солдата пожалели!
Выйдя из машины у самой кромки залива, ищу следы когда-то грозных сооружений. Их нет. Где же все-таки каменные идолы войны? - вопросительно смотрю я на своего гида.
- Ты о чем? - не вдруг, с достоинством, вопрошает он меня.
За время длительных поездок с Нордстрёмом и множества встреч с его сверстниками, у меня стало складываться впечатление, что они не слишком "ударяются" в свое военное прошлое. Не оттого ли, что, невзирая на возраст, их сегодняшнее настоящее настолько насыщено деятельностью, что поглощает без остатка и внимание, и время. Чтобы держаться "на плаву" предпринимателю в поте лица приходится трудиться с раннего утра до позднего вечера, и принятое нами на веру понятие о бездельнике капиталисте "ешь ананасы, рябчиков жуй", в действительности, самый, что ни на есть, блеф.
Для финского ветерана, не ушедшего на пенсию, а таких довольно много, жить прошлым равно констатации факта, что в настоящем ты пребываешь у разбитого корыта.
Удивительно, сколько бы ни ездил я с Мартти по дорогам другой страны, у меня не возникало ощущения отчетливого, безапелляционно "чужого". Такие же голубоглазые лица со светлыми прямыми волосами были рядом со мной с самого детства, и их легко, как давних друзей, принимала моя память. А язык? О нем и говорить не приходится, знаком и понятен, как свой карельский.
Казалось, что все, мелькавшее у меня перед глазами, я однажды уже где-то видел и, мало того, хорошо знал!
Вместе с тем, в дороге меня не покидало чувство какого-то непонятного внутреннего беспокойства, а глаза непроизвольно, как будто без малейшего усилия их хозяина, с острым вниманием вглядывались в лица пожилых женщин, мятежно перебегая с силуэта на силуэт. Чего-то безотчетно и тревожно доискивалась моя душа.
Казалось, я нисколько не устал после длительного, в несколько сот километров, вояжа по дружественной чистенькой стране, и утомление дало знать о себе уже, когда мы подъезжали к загородной даче Нордстрёма. Собственно, ее трудно назвать дачей в нашем привычном понимании. Петляя среди высоких сосен и елей, гладкая дорога плавно подняла нас вверх к просторному, низкому, ярко окрашенному деревянному дому. Издали казалось, что он плотно втиснут между светло-коричневыми стволами раскидистых сосен, мощными узловатыми корнями оплетающих гладкие лбы огромных сероватых камней, проглядывающих сквозь непрочный тонкий бархат нежного мха и сочных пучков травы. Ведущая к крыльцу аккуратная дорожка была густо усыпана рыжими иглами хвои и мелкими шишечками. Лес источал аромат нагретой на солнце хвои и хорошо продувался ветерком. Изредка возле уха пищал тоненький зуммер комара. Перепархивая с кустов на нижние ветви деревьев, неокрепшими голосами негромко чирикали, пробуя свои крылья, птенцы.
Мартти представил меня жене, статной и энергичной моложавой женщине. Расположившись за чаем на уютной, просторной веранде, я осмотрелся.
Кругом, насколько охватывал взгляд, и внизу, почти у ног, колыхались от слабого ветра раскинувшиеся шатром кроны сосен и темные верхушки елей с нежными желто-зелеными пальцами молодых побегов.
Через их вершины внизу просматривалась поблескивавшая на солнце голубая чешуя Финского залива.
- Интересно, сколько же у Мартти земли? - подумалось мне. Глаза остановились на деревянном доме у самой кромки воды. Если бы не его внушительные размеры, я бы счел его баней. Как позже мне сказали, это, действительно, была большая баня. - За счет чего Мартти смог снова подняться? - продолжала набирать обороты настойчивая мысль. Как я понял из бесед с ним, фирма его отца имела глубокие корни и делала в прошлом значительную погоду в экономике Суоми. Она имела 18 океанских судов, ее сейнеры вели промысел рыбы у берегов Ньюфаундленда. На своих же заводах рыбу и перерабатывали. Владеющая несколькими лесопильными комбинатами, торговым портом, железной дорогой, протянувшейся вдоль берега залива, эта торгово-промышленная империя была богата и землями.
До Зимней войны родовое имение матери Мартти, супруги Нордстрёма-старшего, расположенное в окрестностях нашего нынешнего Салми, насчитывало 60 гектаров пахотной земли и двести гектаров леса. Русский царизм, покоривший Финляндию в начале XIX века, на собственность богатых владельцев не покушался. В. И. Ленин, предоставив финнов после революции естественному ходу истории, тем самым дал частным владениям счастливый шанс выжить. Все полетело вверх тормашками в Зимнюю войну 1939-1940 гг. Земли Нордстрёмов и их имение были захвачены Красной Армией.
Компенсировало ли государство Нордстрёму эти земли? - вертелся у меня на кончике языка вопрос, который я так и не решился задать.
По ассоциации в паяти всплыла дискуссия, проведенная как-то редакцией журнала "Карелия": "Возвращать ли Финляндии территорию, завоеванную Красной Армией в 1939-1940 гг.?"
"Зачем бередить старую рану?" - думал я, глядя на уставшее после поездки лицо Мартти. Насколько больно представить родной дом, занятый чужими, и во что это порой выливается, знаю печальные примеры из жизни. Один из них воистину трагичен. О нем я услышал однажды на семинаре пропагандистов Карелии в доме политпросвещения Карельского обкома КПСС. Лектор, майор КГБ, приводил факты из жизни, насколько наша бдительность бывает, мягко говоря, "не на уровне", и даже граница становится проходным двором, пропуская перебежчиков с сопредельного государства. Случай, о котором рассказал представитель грозного ведомства, произошел 30 лет назад и Приладожье. Какой-то финн осмелился нарушить государственную границу, чтобы пробраться на свой хутор. Не жалея красок, лектор расписывал, каким предстал родной дом перед бывшим хозяином. Вначале в нем поселили вербованных из Белоруссии, но потом, когда они стали жаловаться на удаленность и обособленность хутора, им подыскали жилье в поселке. Дом остался без присмотра на разорение бродяжному люду и всякой шушере. То, что предстало перед мастеровым человеком, поднимавшим сруб собственными руками и помнившим в нем каждый гвоздь, его сразило: разграблено было, за исключением стен и крыши, ! нее. Ни окон, ни подоконников, ни дверей. Вместо пола ' зияла черная дыра подвала через две, чудом уцелевшие, проломленные доски. Над жильем надругались. Чтобы как-то добраться до полуразрушенной печи, он долго расчищал, задыхаясь от гнева и слез, узкую дорожку среди нечистот. От облицовочной плитки и следа не осталось: обломки ее острыми углами торчали из островков шлака. Немым свидетелем упорного труда валялась лопата. Никто не знает, сколько бился хозяин, счищая ею грязь, но потом, видно, понял, что он бессилен здесь что-либо изменить, и труд его, в сущности, не имеет смысла. Не живать ему больше в родном доме! Не хаживать по строганным отцом удобным, привычным ступенькам!
По куску доски, брошенному на вычищенный от грязи | пятачок крыльца, можно было судить, что какое-то время финн, видимо, сидел в раздумье. Вокруг дома виднелись неглубокие следы от его резиновых сапог.
Случайно забредшие сюда на другой день "сообразить на троих" горе-работяги в ужасе бросились прочь от раскачивающегося на хлипкой веревке тела, ногами едва не касающегося светлого пятна на крыльце.
"Вот вам наша показушная бдительность!" - звучный баритон вмиг вернул слушателей к действительности. Ни один из них не шелохнулся, даже когда лекция-дискуссия закончилась. Аудитория растерянно безмолвствовала. Четыреста человек тихо пропускали мимо ушей патетическую очередь профессионально поставленного голоса. С трибуны сыпались упреки пограничникам в халатности и головотяпстве, а перед глазами сидящих все еще качался измученный ,изуверившийся человек с петлей на шее. Живым людям необходимо было домыслить все до конца: зачем он пришел? Просто поклониться родным углам, и тогда эта смерть - сиюминутная реакция на внезапную, ударившую, как выстрел, обиду, пережить которую не хватило сил?
Или заранее уже шел с мыслью умереть у родного порога? Вопросы повисли в воздухе. Кто в силах их разрешить? Чем маялась душа этого несчастного в последние минуты? Кому теперь это ведомо? Сковавшую вдруг слушателей немоту я, надеюсь, разгадал правильно: верните людям то, что им принадлежало! Это и был ответ на дискуссию. Не можете вернуть, компенсируйте валютой. Если и это сделать не в состоянии, то хоть позвольте бывшим владельцам время от времени посещать родные места, старые пепелища, чтобы привести в порядок родительские могилы. Не все же в мире Иваны - не помнящие родства?
Мы долго беседовали с Мартти о войне, о его детях и жене, делах фирмы. Предприниматель не убивается воспоминаниями о прошлом, он с утра до ночи в делах. - Отцовская выучка, - шутит он. Фирма систематически оплачивает обучение в хельсинкском университете малоимущим студентам, выделяет крупные суммы для ловийской церкви, школы и по возможности поддерживает нуждающихся людей.
Мартти принимает энергичное участие в создании будущей книги мемуаров. По предварительной договоренности, финская сторона собирает материалы о войне у своих участников, а я - у наших. Кстати, свою долю работы почти закончил, и меня интересовало, что успели сделать в этом плане с финской стороны.
Но сейчас хлопоты о книге отходят на второе место, и в плену единственно значимой мысли: непременно отыскать следы Лемпи. Как оказалось, эта задача куда неотложнее первой. Суоми - не Россия, думалось мне еще в Петрозаводске, найти там кого угодно несложно. Кроме того, я очень надеялся на Мартти, зная что у него есть давнишние и новые знакомства с большинством финских ветеранов.
- А не известно ли тебе, - осторожно начинает проклевываться мой тревожный вопрос, - что-либо о телефонистке по имени Лемпи? Она была в Кинелахте вместе с финскими частями во время войны.- Мартти задержал на моем лице внимательный, серьезный взгляд, что-то напряженно припоминая. Достал с полки толстый телефонный справочник и долго его листал, затем вразвалочку подошел к телефону, несколько раз набирал номер. Сигналы из трубки будто бы сливались с гулом раскачавшегося колокола в моей груди. Сердце билось тяжело и напряженно, требуя от судьбы какого-то, хоть чуть-чуть утешительного сигнала. - Вот! - Мартти удовлетворенно хмыкнул в мою сторону. Я так и думал, где-то сто, сто двадцать километров отсюда! С утра после завтрака и двинемся! Эти слова означали, что пора готовиться ко сну. Похоже, Мартти брал реванш за многословие нескольких экскурсионных дней. Он быстро заснул, редко и глубоко посапывая.
Ночь была душной. С залива доносились тревожные крики чаек. Откуда-то прибился к оконной сетке сонм комаров и звенел всю ночь нудным, не стихающим оркестром, и такой же рой мыслей ни на минуту не покидал моей уставшей от раздумий головы. Что я завтра увижу?
За огромными стеклами веранды, где мне постелили на диване, было по-июньски светло, и ветки сосен неспокойно шуршали по стене в такт ветру.
Передо мной стояло лицо Лемпи в тот момент, когда я отказался ехать с ней на чужбину. Радостная просьба-улыбка, мольба - "Поехали с нами, Юхо!" - постепенно сходила с ее лица, и на нем, неуловимо сменяясь, появилось вначале разочарование, затем страдальческая беспомощность, а потом, когда она уже вскакивала в седло велосипеда, досада и решительность. - Что же, каждому свое! - выражал ее упрямо сжатый рот и чуть сдвинутые к переносице брови. - Насильно мил не будешь! С досадным разочарованием она отвернулась от меня, а когда вновь взглянула в мои глаза, это уже была прежняя, любимая мной Лемпи - благородная, добрая, милая и несказанно желанная! Я редко встречал лица, которые бы так точно и мгновенно отражали каждое движение души. В последние секунды прощания Лемпи была гордой, уверенной, решительной и неотразимо прекрасной. Горячий, настойчивый взгляд изумленно говорил: "Ну что ты, дурачок, раздумываешь? Я же сама, хоть и женщина, делаю первый встречный шаг, чтобы соединить свою жизнь с твоею! Неужели неясно, что тут раздумывать?"
Тогда бы мне оценить ее смелый порыв, бывший одновременно открытым вызовом мужу. По существу, одним взглядом и движением бровей она отсекала его от себя, предпочитая тем самым меня ефрейтору Вилле - то, о чем когда-то я и грезить не смел в самых смелых своих помыслах.
Это была не игра, не бравада. Перед лицом смерти Лемпи мужественно и честно мгновенно решала судьбу свою, мою и мужа. Это была редкая решительность и искренность! Тогда мне, несмышленышу, было этого не понять и не оценить. - Не дорос, значит! - громко вырвалось сейчас у меня вслух, а воспоминания не выпускали из своего плена.
Когда Лемпи увидела, что я на какое-то мгновение заколебался в выборе "уходить-остаться", ее настойчивость усилилась. Терпеливо, как неразумное дитя, она мягко убеждала меня не разрывать бесценное, редкостное слияние наших сердец... Только теперь я понял, что, по существу, затоптал самое прекрасное из всего, что посылал мне в жизни Господь. Подобного я больше уже никогда не испытывал. - Как слепы люди, - досада мелкими щипками не давала мне покоя. - Не все, далеко не все! - тут же осуждающе пенял рассудок. - Увы, умный ценит то, что имеет, а глупый, что теряет! Когда приходят минуты счастья, человек, по наивности, не понимает, сколь они недолги и как надо стараться, чтобы продлить эти прекрасные мгновения, удержать их, не упустить!.. Тут я вновь проваливался в бездну сомнения. -Зачем я еду? Может быть, лучше оставить в памяти последние минуты прощания, ничего больше не добавляя? Вспоминать розоватую в лучах поднимающегося светила девичью фигурку, ласточкой взмывающую над водами Синемуксы? Для чего смывать запечатленный в памяти образ несравненной красоты и нежности волной грубой материальной действительности? Что я тогда смогу приберечь для души? Горстку пепла?
Едва не задыхаюсь от неожиданно ухнувшей над ухом иерихонской трубы нордстрёмского голоса: "Подъем, солдат! Силен спать!"
Откуда ему знать, что я смежил веки уже на зорьке? Степенно умываемся, завтракаем. Безотчетно пытаюсь оттянуть время, но Мартти и не подозревает о кипящих моих страстях и никак не обретшем равновесие маятнике колебаний. Мосты сожжены! Едем!
Когда мы, деликатно постучавшись, входим в просторную гостиную большой городской квартиры в пятиэтажном, на белые и коричневые квадраты размалеванном доме, мои глаза, казалось, мне изменяют. Почудилось, что ли? Нам открыл дверь молодой, приветливый Вилле. Только в плечах он теперь стал, пожалуй, поуже и живот словно бы прилип к спине. А талия, талия! Ну нет, это не ефрейтор Вилле! А кто же тогда? А кто может быть.? Сын его, наверное, больше некому! И я осторожно пожимаю его дружескую мягкую ладонь, благоразумно, в ожидании следующего чуда, ухватившись за дверной косяк. В дверном проеме очень обыденно, не глядя на нас, появляется прежняя Лемпи.
Да, это она... прежняя Лемпи! Конечно же.., да.., прежняя... только вот волосы побелели, а вблизи вокруг глаз видна сетка морщин, и усталые тени пролегли у крыльев носа и слились с такими же прочерками у углов рта. Да, для нас уже вечер! Но лицо Лемпи радостно вспыхивает, а си-ние-пресиние глаза умоляют и опровергают. "Нет! Еще не вечер! Конечно же, еще не вечер!" Это длилось какие-то секунды. Потом ее лицо угасло, словно кто-то задул свечу, и передо мной предстала сдержанная, спокойно-приветливая женщина, рассудительная и суховатая.
- Terve, Jussi, - сдавленно и тихо захлебывался ее голос, а глаза говорили: "Ну почему ты не пошел тогда со мной? Зачем застыл изваянием на бугре? На кого меня оставил?"
Как потом она нам поведала, наскоро собрав чай с крекерами, она уже давно, с самого окончания войны - вдова. Вилле подорвался на мине. Скорее всего, на своей же, финской, - молнией мелькнуло у меня в мозгу. Уходя, сколько их везде натыкали! Сами же и отведали! Я с досадой поймал себя на злорадстве и поднял глаза на Лемпи. - Почему же ты так поздно меня отыскал? - откровенно, с обидой и плохо скрываемым разочарованием упрекала синева ее взора. Слезы переполняли два больших голубых озера, две родные Синемуксы. - И вправду, - вдруг впились мелкие иголки в мою, и без того взбудораженную совесть, - почему сразу после войны не кинулся на розыски своей любимой, самой красивой, доброй, единственной? Вот жизнь и наказала, только не тебя, а ту, из-за которой когда-то ночами заснуть не мог! А память скептически усмехнулась: "Посмел бы ты тогда подумать об этом!"
Лемпи и сейчас была хороша. Из распахнутого ярко-белого ворота в мелкую черную крапинку горделиво открывалась по-прежнему точеная шея. Тот же хрупкий изящный Меркурий, которого так вдруг захотелось прижать к себе и никогда больше не терять из виду, заслонять от бед, защищать...
- Что же ты наделал? - горькой обидой отзывалось мое сердце. Оно радовалось, это преданнейшее проницательное сердце, завершившее, наконец, свой многолетний поиск. Ни на минуту не забывало оно завладевшего им образа, с трудом пробиваясь через маету и суету памяти, всплывая иногда в ней горячей волной. В отличие от своего хозяина, оно твердо знало, чего хотело, десятилетиями сохраняя в себе чистый тлеющий уголек любви.
Оно оказалось сильнее меня, это маленькое и упрямое хранилище любви и победило. Я почувствовал, будто на тлеющий костер плеснули мощной струей бензина, и он разгорелся до самого неба. Так тебе и надо! - учащало сердце свой немыслимо-радостный танец и захлебнулось в сладкой волне счастья.
Я шагнул навстречу протянутым рукам и утонул в теплом, долгожданном кольце их плена. Краем глаза заметил ошарашенные, округло-вытаращенные глаза Мартти и тут же забыл о нем, блаженно ощущая, как впервые за многие десятилетия удовлетворенно-отрадно мурлыкало в груди благодарное сердце, отыскав, наконец, в ней единственный уютный, покойный уголок.