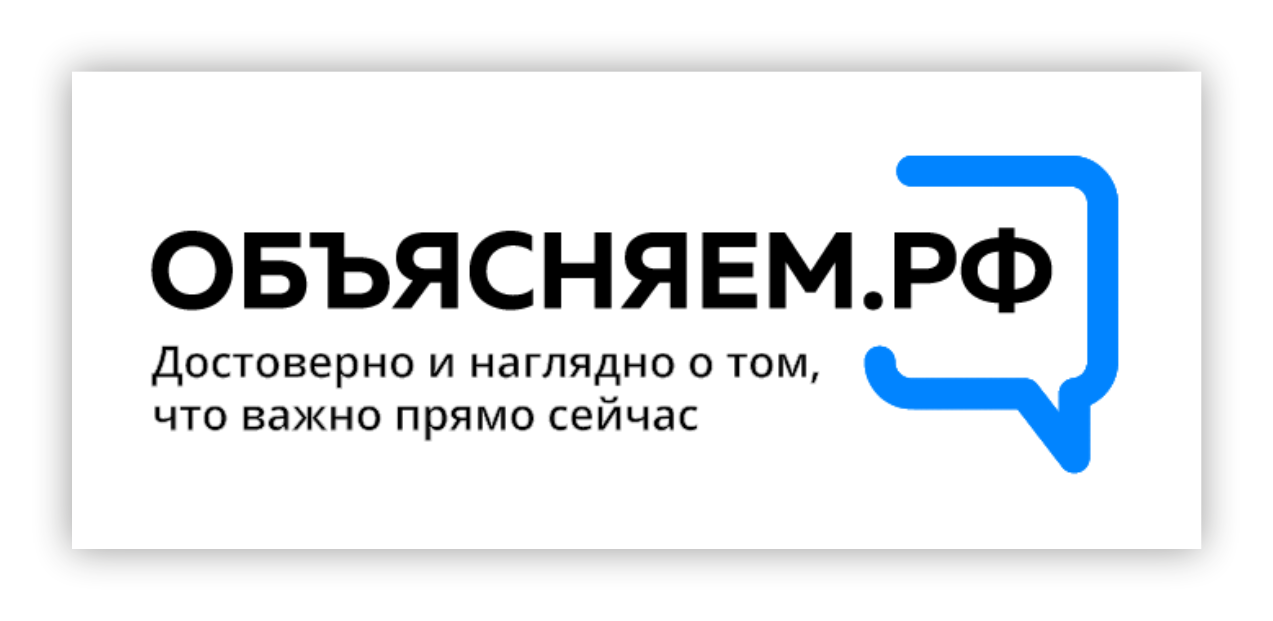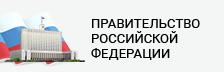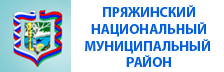Как-то утром, в один из февральских дней 1945 года, в казарме неожиданно появился помощник командира взвода Старчак в сопровождении двух солдат в мятых, видать, только что из каптерки, бушлатах. Поверх рваных ботинок у них были неумело, кое-как накручены обмотки, так что нога напоминала растрепанный кочан капусты. Вояки шаркали при каждом шаге, с трудом отрывая подошвы от пола.
- Принимайте пополнение! - глядя на нас, произнес младший сержант. Мы заправляли постели, готовясь к построению.
Гаджиев, так звали новенького, которого Старчак оставил в нашем отделении, указав, где ему располагаться. Никого не замечая, он швырнул на нары вещевой мешок, бушлат и шапку, а потом, ткнув кулаком в нескольких местах матрац с опилками, с удовлетворением хмыкнул: "Мягкий, падла!" Тут же в обуви завалился поверх брошенных вещей на нары и рявкнул на нас, в изумлении глядящих на это невиданное чудо: - Ну че зенки вылупили, волки позорные! Херувимчики, .... твою мать! Баланду когда принесут?
- Так вот, в столовую идти строимся, - кто-то начал вводить новенького в курс дневного распорядка.
- Чего? - пружиной спрыгнул тот с нар. - Хавать топаем?
В строю он стоял крайним, росточком не вышел. Глядя на новенького, младший сержант Кочура изо всех сил таращил глаза, подавляя смех. Бушлат Гаджиеву доходил почти до колен, а гимнастерка еще ниже, фалдами выглядывая из-под него, как платье. Опорки на ногах явно мешали идти, того и гляди обмотки размотаются и сплетутся между собой; ежик коротких черных волос пестрел белыми проплешинами, как косынка в горошек. Строй вытянул шеи в сторону новенького, кто-то шепнул: "Матрешка завелась!". Все прыснули, сдерживая смешок.
"Разговорчики! - прикрикнул командир отделения. - Товарищ красноармеец, - обратился он к Гаджиеву, - подтянуть ремень! Поправить обувь!" Но красноармееец Гаджиев и ухом не повел. Матрешка, как называли мы его между собой, оказалась далеко не безобидной. "Откуда такой выискался? - допытывались мы у его напарника, заторможенного долговязого парня. "А шут его знает, отмахивался тот. - Знаю только, что урка, из какой-то Архангельской тюряги". Потом, действительно, подтвердилось, что его привезли откуда-то из-под Котласа из большого лагеря; там здоровых крепких мужчин среди заключенных почти не осталось. Гаджиев до последнего цеплялся за свое узилище, симулируя неизлечимую болезнь, но лагерный фельдшер не лыком был шит, и он в числе тысяч других таких же уголовников в армию-таки попал.
Круглолицый, смуглый, с узенькими щелочками глаз, Гаджиев был, пожалуй, года на два старше нас. Руки-ноги короткие, при ходьбе переваливается, да еще и ног от земли не отрывает. Густые брови срослись у переносья, волосы чуть ли не от бровей растут. Мы никогда не видели у него улыбки, взгляд постоянно настороженный, лицо угрюмое. Старались обходить стороной и лишний раз к нему без нужды не обращались. Кому охота нарваться на матерщину? Но не получалось, урка сам лез на рожон.
Мы так и не узнали, откуда он родом, вряд ли и ему это было известно: по его замашкам и словечкам мы смутно догадывались, что он, наверное, и семьи-то мало-мальски нормальной не знал. "Бедолага-человек, перекати поле", - пожимали мы между собой плечами. Может, в полку подтянется, исправляются же люди! В душе каждый побаивался его, хоть виду и не подавал. Поразмыслив, сочувствовали, что трудно карабкаться в жизни без отца-матери. Интересно, крещеный он или нет?
Только сам "чурка", так мы стали называть этого новоявленного вояку, рассуждал по-иному. Нас он признавать не собирался, мало того, совсем обнаглел.
Каждое утро отделение задерживало из-за новенького построение. Для него камнем преткновения оставались две, на первый взгляд, совсем не сложные вещи: заправить постель и обуться. Дело в том, что спали мы на широких, в два яруса, дощатых настилах, на которых для каждого бойца был постлан матрац, набитый опилками, и такая же подушка. Как полагалось, имелись наволочка и простыня. Утром мы выравнивали опилки с помощью двух реек, надо было придать каждой постели вид четкого длинного прямоугольника, что-то вроде гроба. Сверху настилалось солдатское одеяло и, не менее четко, - квадратом-ложе увенчивала подушка.
С обмотками мы справлялись лихо. Эту неширокую полоску грубой, крепкой ткани старались одновременно приладить и к ноге, и к ботинку. Она не только утепляла и зрительно увеличивала исхудавшую, как спичку, голень, но и притягивала хлопавшие рваные бока ботинок, а иной раз и подошву подвязывала - голь на выдумки хитра! На весь горький ритуал одевания и заправки постели давалось несколько минут. Помучавшись первые дни и потренировавшись вечерами с непослушной лентой, каждый к концу недели этой наукой вполне овладевал и выполнял ее по команде почти автоматически. Но не Гаджиев. После любого замечания от Кочуры он по пути в столовую сыпал на наши головы такую матерщину и проклятия, что мы невольно жмурились, как от ударов: в деревне, отродясь, я ни от кого, кроме как от Соткина, бранных слов не слышал, это считалось грехом. Соткин в подметки не годился нашему сквернослову.
На этот раз Гаджиев тоже пришел в столовую, как обычно, голодный и злой. Не дожидаясь, пока дежурный разольет суп по мискам, он пристроился к бачку и стал вычерпывать со дна гущу с жалкими кусочками мяса.
- Ты что делаешь? - нашему возмущению, казалось, не было предела.
- Шушере после меня! - Забитый едой рот урки не позволял посылать обычное "...отца и сына и Бога мать", - то, что и отпетые хулиганы не говорят в страхе прогневить Бога.
Похоже, наша деревенская робость все больше позволяла ему распоясываться. Уверенный в полной безнаказанности, Гаджиев тут же прихватил у соседей по куску хлеба, разрезанного строго по числу едоков. Когда ребята потянулись к нему, чтобы отобрать свою законную долю, он так стукнул миской по протянутым острым костяшкам пальцев, что те только охнули от боли, схватившись за ушибленную кисть.
- А ну-ка, верни хлеб, - замахнулся на него черпаком дежурный.
- Чего еще? Козлы поганые! Доходяги! Жмурики блаженные! Да вас все равно скоро копытами вперед вынесут, сами, без всякого Гитлера, коньки откинете! Это у вашего начальства будки гладкие, кирпича просят!
Возражать ему особо не хотелось. Мы, действительно, были доходяги, а у лейтенанта и особиста щеки упруго лоснились. Но измываться над нами какому-то преступнику решили ни за что не позволять. Надо только держаться дружнее.
На другое утро, как обычно, прозвучала команда "Подъем!" Гаджиев только одеяло на уши натягивает. Кочура повторяет испытанный в таких случаях прием.
- Отделение, ложись! - И не успели лечь, как ту же, сразу: "Подъем!".
Гаджиев ни гу-гу.
- Красноармеец Гаджиев, подъем!
Солдат без движения. Тогда комотделения мигом сдергивает с него одеяло.
- Три минуты на одевание!
- Да пошел ты, гнида... - зашипел змеей, распаляясь, Гаджиев. Дальше, как обычно, следовал длинный адрес, куда идти.
Кочура, точно ничего не слышал, пропуская грязную брань мимо ушей, держал в руках одеяло. Мы возмущенно следили за уркой. Неожиданно неуклюжий Гаджиев молнией скользнул с нар к пирамиде с оружием и через секунду острие штыка было в каком-то метре от груди сержанта. Я чуть не обомлел от страха, на колебание времени не оставалось. В мгновение я рванулся к преступнику и подставил ему подножку; тот с ходу запнулся и распластался на полу, ткнувшись лицом в доски. СВТ (самозарядная винтовка со штыком) отлетела далеко под нары. Втянув голову в плечи и закрыв ее руками, Гаджиев боялся подняться, видимо, ожидал расправы.
Поняв, наконец, что самосуд не состоится, он пружиной вскочил с пола и, истерически рванув на груди застиранную нижнюю сорочку, покраснев от натуги, завизжал: - Ну что рты разинули! Вот он, вот он - я весь! Колите, убивайте, падлы... вашу мать! - На груди, между двух черных, заскорузлых сосков, синела какая-то татуировка. Кальсоны сползли длинными, грубыми гармошками. Урка представлял собой неприятное и жалкое зрелище, но не успела промелькнуть у меня эта мысль, как он тут же подскочил ко мне и в ярости зашипел:
- Ну, паскуда, сукой буду, если ты кровью не умоешь ся! Зачтется!
Возмутителя спокойствия арестовали. Когда конвоиры повели его к выходу, он обернулся и крикнул Кочуре:
-Давно бы так, тухлый мерин! А то развел тут гнилой базар...
По всему видно было, что он добился того, что хотел. Победно взглянув поверх наших голов, он презрительно цикнул слюной, обнажив крепкие белые зубы, и первый раз мы удостоились от него жалкого подобия улыбки.
- Прощайте, доходяги! Пупы не надорвите!
Вечером перед сном мы долго не могли угомониться, переживая ЧП. - И зачем только таких в армию посылают? - недоумевали мы. Ведь за такими Гаджиевыми и в бою глаз нужен, не будешь знать, за кем и следить - за немцем или за уркой. Без царя в голове, он и в тебя по злобе пульнет.
- А что ему терять? - тихо спросил кто-то из ребят.
Ему любой строгий режим лучше, чем фронт.
"Да ты что? - хором возразили мы. - Он же не понимает, что за покушение на командира его ждет расстрел!" После этих слов все, как по команде, притихли. Расстрел - это уже было серьезно и страшно.
"Пень болотный, - вздохнул кто-то. - И чего людям не живется! Молодой же еще! Сей год девятнадцать стукнет! Интересно, за что его посадили? И почему он тут очутился?".
Откуда нам тогда было знать, что не только в наше отделение присылали отбывающих срок заключенных. Война в фазе завершающего наступления пожирала все новые и новые жертвы, брали всех, кто мог держать винтовку. Из лагерей и тюрем были отправлены на фронт десятки тысяч ссыльных и заключенных: политических, как четвертая рота, которую мучили муштрой в нашем полку, и уголовников типа Гаджиева.
Там, где прошла Красная Армия, под ружье призывались 16-летние. Наши ровесники в тылу были мобилизованы на год позже, и их война, по существу, не коснулась.
Каково же было наше изумление, когда через десять суток в столовой мы снова увидели возмутителя спокойствия, увы, не расстрелянного и оставленного на свободе! Щеки у него ввалились, под глазами появились тени. Дежурный зачерпнул ему в миску побольше супа, бог с ним, полупрозрачной водицы не жалко! Ничего себе порядочки, возмущался в душе каждый из нас, отъявленного бандита, который на виду у отделения солдат бросается на их командира, и тот чудом остается жив, снова выпустить на свободу? Нет, тут явно было что-то не так! Урка демонстративно насвистывал песенки, какие-то свои, блатные. Я знал, что Гаджиев свою угрозу постарается привести в исполнение, жизнь моя стала незавидной: спать волглаза, слышать и видеть за двоих. Были настороже и мои товарищи, неизвестно, что уголовник задумал.
Скоро случай представился, в один из банных дней. В поселковой бане горячей воды было вдосталь,а пара, вернее, тумана, еще больше. Это был не тот легкий сухой жар, к которому мы привыкли в своих карельских банях и который так любят все - и охотники, и рыбаки, и молодухи, выпаривая после сбора грибов и ягод комариные укусы. Особенно любят баню старики и старухи, командуя еще и еще "выздать пару" - плеснуть ковшик-другой на раскаленную каменку. От жара рассыпаются горячие сухие волосы, а дышится легко. Мы мылись в обычной размокшей и заплесневелой коммунальной бане, где в двух шагах ничего не видно. Лучший случай для мести чурке вряд ли мог подвернуться. Я понимал это и не спускал с него глаз. Пристроившись рядом со мной, он набрал полную шайку кипятка, и, делая вид, что ошпаривает полку, целится мне на живот, а потом, смотрю, еще ниже. "Ну и собака,- думаю, - значит решил лишить меня мужского достоинства? Ну-ну, давай целься, леший тебя дери!" Перед самым носом злоумышленника я ускольз-нул в сторону. Кипяток выплеснулся в мою шайку, обрызгав соседу ногу. Тот, огрызнувшись на Гаджиева, отскочил. Месть не удалась.
Через неделю урка был застукан с поличным при попытке обокрасть хлеборезку. Из нашего батальона его убрали. Может быть, перевели в другой. Скорее всего, так и случилось.
В истории есть прецеденты, когда люди с уголовным прошлым, к примеру, добывавшие из сейфов под покровом ночи деньги для партии, поднимались на такую вершину власти, что шапка падала у желающих ее разглядеть. Выше не бывает. Для них не были препятствием заповеди "Не укради! Не убий!", что слышали, но не усвоили они в духовной семинарии. Тем не менее, в страшный час обратились к народу, как к пастве: "Братья и сестры!..." .
Откуда появлялись в сталинском окружении Ягоды, Ежовы, Берии, Мехлисы, Калашниковы, Штыковы и им подобные? Накануне второй мировой войны в Красной Армии еще много оставалось офицеров старого закала. Это были обломки фундамента глубокой военной науки и продолжатели русских офицерских традиций. Вряд ли они поступились бы совестью в поддержке экспансионистских планов отца народов. Предвоенные репрессии выкосили из Красной Армии почти весь верхний и средний командирский эшелон.
Восполнялся он далеко не равноценными знатоками военного искусства: часто это были вкусившие власти над солдатом полуграмотные сержанты или старшины, цивильные секретари партийных ячеек или комсомольские вожаки. Ускоренные командирские курсы, полувоенные, полупартийные - и офицер готов! Вместе с партийным билетом! Честные боевые офицеры- служаки, как правило, высоких воинских званий не добивались. Военную карьеру чаще делали люди осторожные, угодничавшие перед начальством, больше пробивающиеся по партийной линии. Знали цитаты из трудов коммунистических теоретиков, азы классовой борьбы и были поразительно некомпетентны в военной науке, не говоря уже о каком-то полководческом таланте. То и дело ссылаясь на партию и Сталина, такие военачальники были безапелляционны в суждениях, скоры в решениях и непоколебимо уверены в своей правоте. Самокритика отсутствовала у этих людей напрочь. К подчиненным они были жестоки, что заменяло разумную требовательность. Но, увы, этим не восполнить знание военного ремесла, в итоге и получали - победы любой ценой, горы трупов.
Это была не та офицерская элита военачальников, которая никогда не примешивала к военным действиям соображения чьей-то политики и обращалась на "вы" к поручикам. Заложники чести зачастую не жалели жизни, только бы не дать повода усомниться в их порядочности.
Увы, в памяти по ассоциации всплывает недавняя пресс-конференция с одним, очень высоко взлетевшим армейским чином. Ему были предъявлены обвинения, по сути, оскорбления, на которые он должен был, по законам офицерской и просто человеческой чести ответить документами и фактами и привлечь виновных в ложных обвинениях к суду. Он же прощелыжно не отреагировал. А ведь оскорбляя честь военачальника, в его лице оскорбляют армию. Напрашивается вывод: что, нечем было крыть? А мы разводим руками, откуда в армии дезертирство, пьянство, воровство, расхищение оружия и техники, дедовщина?
Позорно неумение генералов стратегически мыслить, а офицеров и солдат воевать. Иначе не оставили бы 3 года назад в распоряжении Дудаева колоссальные запасы современного оружия, превратив Кавказ в пороховой погреб. Кто ответит за то, что в Грозный послали через 2 месяца после призыва мальчишек, не обученных даже стрельбе из автомата? Их учили уже там, в ходе уличных стычек. Какие головотяпы с широкими лампасами это допустили? Вопросам нет конца.
Неужели так глубоко укоренились традиции тех горе-генералов, что, сговорившись в 1944 году, едва не лишили права на существование целый народ, с незапамятных времен живущий на Карельской земле?